О Татьяне Беляевой
О Татьяне Беляевой
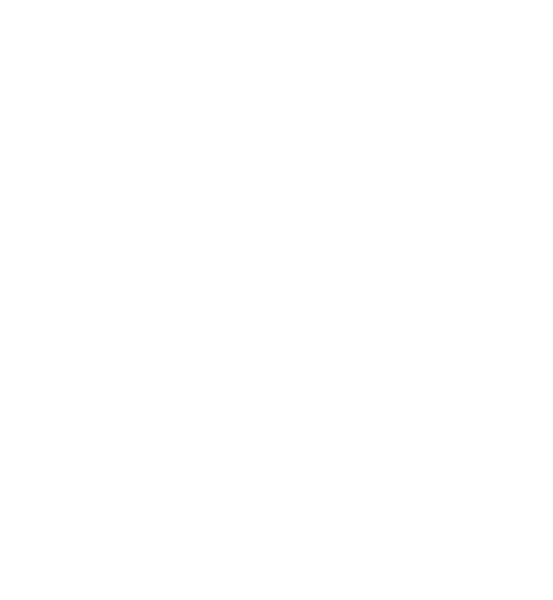
Эраст Давидович Кузнецов российский учёный, искусствовед, редактор, историк, публицист. Член Российской академии художественной критики. Член Ассоциации искусствоведов.
Странное дело, если бы не знать совершенно достоверно, что Татьяна Беляева, отмечающая свой день рождения в конце ноября, по знаку зодиака - Стрелец, легко было бы предположить, что она появилась на свет месяцем позже. Женщину, родившуюся под знаком Козерога, обычно отличает разительное противоречие между полнотой и силой чувствований, переживаемых ею, и постоянным стремлением их обуздывать, регулировать, подчинять соображениям рассудка и нормам поведения - как внешним, так и ею самой над собою установленным.
Человеческое и профессиональное переплетены в ней так тесно, что и ее существование в искусстве носит отпечаток того же противоречия. Исполненное ею за многие годы обширно и разноречиво. Это отголосок е своеобразного профессионального становления, в силу обстоятельство затянувшегося и, может быть еще не вполне завершенного: здесь личное, сугубо индивидуальное, сталкивается с усвоенным, а усвоенное в разное время то и дело всплывает атавизмами, перемешиваясь с новым, и не всегда поймешь, где ее собственное, а где наживное. Сегодня она совсем не та, что была еще вчера, а назавтра, кто знает, вдруг обернется позавчерашней, и иная ее выставка может показаться выставкой групповой.
Все же в этой разноголосности отчетливо проступает противостояние двух крайностей, двух полюсов.
Один полюс - работы исключительно натурные. Прежде всего, это многочисленные небольшие пейзажи откровенно этюдного свойства, часто исполняемые гуашью в две-три краски (черная, белая, охра) на газетной бумаге. Энергичные и быстрые, они на редкость непосредственны в передаче видимого. Можно было бы усмотреть в них просто разумное следование строму, но не устаревшему представлению о том, что постоянная работа по интерпретации реальности - лучшая школа для художника, если бы не своеобразный живописный триптих "Утро", который вдруг показал Татьяну Беляеву в неожиданном качестве - радующейся видимому миру и даже не без лукавства отождествляющей триптих с предстающим взгляду в трехстворчатом окне (как, собственно, и создавался: что вижу - то пишу). Здесь приоткрывается глубокая потребность художницы в непосредственном контакте с чувственно воспринимаемым миром - таким, каков он есть, в его самоценности. Она углубляется в его созерцание и находит в нем новые и новые оттенки и поводы для эстетического переживания, запечатлевая его с чистосердечным упоением, достойным какого-нибудь импрессиониста былых времен, и не задаваясь при этом никакими иными целями или сторонними идеями.
Второй полюс - работы исключительно сочиненные. Прежде всего, ее "иконы", как она (сама для себя) называет достаточно необычные изображения, не подражающие прямо церковной живописи, но, несомненно, восходящие к впечатлениям от той, да еще усложненные элементами системы В. Стерлигова, воспринятыми художницей через Г.Зубкова, в группе которого она несколько лет усердно работала. Это сочетание нескольких человеческих фигур, не наделенных никакой индивидуальной характерностью и не связанных никаким внятным (для нас) сюжетом; они склоняются друг к другу, словно в загадочном ритуале, образуя цельные группы и растворяя свое личное в их едином бытии.
Здесь Татьяна Беляева выглядит совсем иной. В резком отрыве от узнаваемой реальности обнаруживается активность художницы - ум и воля, направленные на то, чтобы решительно выстраивать свой собственный мир, имеющий мало общего с миром существующим, основанный на априорных представлениях о рациональных закономерностях живописной формы. В самих пропорциях утонченных фигур, в неразгадываемости их тихого и таинственного существования, в статичности бесконечно длящегося мгновения, в отлете от реальности, в настойчивой устремленности ввысь обнаруживается тяга к выражению возвышающего начала, отрешающегося от материальной чувственности, потребность не просто "изобразить" что-то конкретное, но высказаться, поведать нечто.
В сущности, в ней уживаются сразу два разных художника, оспаривающих друг друга, и каждый на своем основании, и ни одним из них поступиться нельзя, потому что в их постоянном взаимодействии, даже противоборстве - ее индивидуальность, глубинная суть того, что делает ее художником. Можно лишь попытаться свести одно с другим - задача не из легких, возникает соблазн просто перекраивать видимое по тем или иным живописным лекалам, и Татьяне Беляевой далеко не всегда удается избежать этого соблазна, но ее выручает редкая серьезность отношения и к цели работы, и к самому ее процессу.
Пейзаж, которым она занимается больше всего и, пожалуй, успешнее всего, дает наиболее благодарные возможности для такого синтеза. Пейзаж не городской - какие-то постройки если и появляются на ее холстах, то большей частью бегло, фрагментарно и как-то вне поля внимания. Скорее всего, потому, что городская, рукотворная среда сама по себе зарегулирована и отыскивать в ней закономерности - дело не увлекательное. Иное дело природа - не ютящаяся на задворках цивилизации, но поглощающая ее приметы, растворяющая их в себе до неразличимости. С одной стороны, это та вечная "равнодушная природа", которая выше нас, в восторженном созерцании которой можно бесконечно растворяться. С другой стороны, это своего рода сложнейшая закономерная система, в которой можно бесконечно разбираться, отыскивая в ней самой скрытую упорядоченность - след одухотворяющего высшего начала, выделяя те мотивы, которые более всего интересны художнику.
Один из таких мотивов - отношения между вертикалью и горизонталью. Мотив, по всей видимости, сугубо формальный. Но Татьяне Беляевой вообще чужда традиция "настроенческого" пейзажа, она не торопится ни впускать зрителей в свое "я", ни самой вторгаться в их сознание. Ее работы могут показаться если не холодными, то спокойными, как бы отрешенными от преходящих эмоций и от тех преходящих состояний природы, которые способны эти эмоции спровоцировать, ее тянет к выражению категорий более отвлеченных и широких. Горизонталь и вертикаль - основные координаты нашего существования в мире: горизонталь удерживает его на себе, вертикаль противостоит ей, устремляя сознание к чему-то иному, "горнему". В их противостоянии Татьяна Беляева отдает предпочтение вертикали, и совсем не случайно в одной из своих натурных работ она с таким явным удовольствием улавливает эту вертикаль в парусе лодки, его отражении в воде и дороге, уходящей в даль и удачно продолжающей их.
В тех пейзажах, которые, может быть, и немногочисленны, но существенны для понимания ее искусства, скрещения горизонтали и вертикали возникают с той или иной степенью проявленности, но постоянно. Одним из персонажей этой бесконечной и безмолвной пространственной драмы становится плоскость земли, очерченная линией горизонта, вторым - дерево (или, чаще, деревья). Дерево это не просто вертикаль, как, скажем, столб, оно содержит в себе идею роста, это овеществленный, воспринимаемый знак устремленности ввысь, что художница склонна подчеркивать. Столкновения эти разнообразны: то вертикали деревьев как бы нанизываются на черту горизонта, то эта черта умножается, расщепляется на параллельные, дублируясь берегом озера (порой и противоположным берегом), то возникает лишь одно скрещение, но настолько мощное, что стягивает в себя силовое поле картины, то вертикали деревьев вытягиваются их отражениями в зеркале воды.
Сохраняя живую и притягательную узнаваемость запечатленного конкретногоместа, напоминать при этом о существовании "иных начал", незримо присутствующих во всем сущем, -- не в этом ли тайное (может быть, и для себя самой?) упование Татьяны Беляевой? Как знать.
Человеческое и профессиональное переплетены в ней так тесно, что и ее существование в искусстве носит отпечаток того же противоречия. Исполненное ею за многие годы обширно и разноречиво. Это отголосок е своеобразного профессионального становления, в силу обстоятельство затянувшегося и, может быть еще не вполне завершенного: здесь личное, сугубо индивидуальное, сталкивается с усвоенным, а усвоенное в разное время то и дело всплывает атавизмами, перемешиваясь с новым, и не всегда поймешь, где ее собственное, а где наживное. Сегодня она совсем не та, что была еще вчера, а назавтра, кто знает, вдруг обернется позавчерашней, и иная ее выставка может показаться выставкой групповой.
Все же в этой разноголосности отчетливо проступает противостояние двух крайностей, двух полюсов.
Один полюс - работы исключительно натурные. Прежде всего, это многочисленные небольшие пейзажи откровенно этюдного свойства, часто исполняемые гуашью в две-три краски (черная, белая, охра) на газетной бумаге. Энергичные и быстрые, они на редкость непосредственны в передаче видимого. Можно было бы усмотреть в них просто разумное следование строму, но не устаревшему представлению о том, что постоянная работа по интерпретации реальности - лучшая школа для художника, если бы не своеобразный живописный триптих "Утро", который вдруг показал Татьяну Беляеву в неожиданном качестве - радующейся видимому миру и даже не без лукавства отождествляющей триптих с предстающим взгляду в трехстворчатом окне (как, собственно, и создавался: что вижу - то пишу). Здесь приоткрывается глубокая потребность художницы в непосредственном контакте с чувственно воспринимаемым миром - таким, каков он есть, в его самоценности. Она углубляется в его созерцание и находит в нем новые и новые оттенки и поводы для эстетического переживания, запечатлевая его с чистосердечным упоением, достойным какого-нибудь импрессиониста былых времен, и не задаваясь при этом никакими иными целями или сторонними идеями.
Второй полюс - работы исключительно сочиненные. Прежде всего, ее "иконы", как она (сама для себя) называет достаточно необычные изображения, не подражающие прямо церковной живописи, но, несомненно, восходящие к впечатлениям от той, да еще усложненные элементами системы В. Стерлигова, воспринятыми художницей через Г.Зубкова, в группе которого она несколько лет усердно работала. Это сочетание нескольких человеческих фигур, не наделенных никакой индивидуальной характерностью и не связанных никаким внятным (для нас) сюжетом; они склоняются друг к другу, словно в загадочном ритуале, образуя цельные группы и растворяя свое личное в их едином бытии.
Здесь Татьяна Беляева выглядит совсем иной. В резком отрыве от узнаваемой реальности обнаруживается активность художницы - ум и воля, направленные на то, чтобы решительно выстраивать свой собственный мир, имеющий мало общего с миром существующим, основанный на априорных представлениях о рациональных закономерностях живописной формы. В самих пропорциях утонченных фигур, в неразгадываемости их тихого и таинственного существования, в статичности бесконечно длящегося мгновения, в отлете от реальности, в настойчивой устремленности ввысь обнаруживается тяга к выражению возвышающего начала, отрешающегося от материальной чувственности, потребность не просто "изобразить" что-то конкретное, но высказаться, поведать нечто.
В сущности, в ней уживаются сразу два разных художника, оспаривающих друг друга, и каждый на своем основании, и ни одним из них поступиться нельзя, потому что в их постоянном взаимодействии, даже противоборстве - ее индивидуальность, глубинная суть того, что делает ее художником. Можно лишь попытаться свести одно с другим - задача не из легких, возникает соблазн просто перекраивать видимое по тем или иным живописным лекалам, и Татьяне Беляевой далеко не всегда удается избежать этого соблазна, но ее выручает редкая серьезность отношения и к цели работы, и к самому ее процессу.
Пейзаж, которым она занимается больше всего и, пожалуй, успешнее всего, дает наиболее благодарные возможности для такого синтеза. Пейзаж не городской - какие-то постройки если и появляются на ее холстах, то большей частью бегло, фрагментарно и как-то вне поля внимания. Скорее всего, потому, что городская, рукотворная среда сама по себе зарегулирована и отыскивать в ней закономерности - дело не увлекательное. Иное дело природа - не ютящаяся на задворках цивилизации, но поглощающая ее приметы, растворяющая их в себе до неразличимости. С одной стороны, это та вечная "равнодушная природа", которая выше нас, в восторженном созерцании которой можно бесконечно растворяться. С другой стороны, это своего рода сложнейшая закономерная система, в которой можно бесконечно разбираться, отыскивая в ней самой скрытую упорядоченность - след одухотворяющего высшего начала, выделяя те мотивы, которые более всего интересны художнику.
Один из таких мотивов - отношения между вертикалью и горизонталью. Мотив, по всей видимости, сугубо формальный. Но Татьяне Беляевой вообще чужда традиция "настроенческого" пейзажа, она не торопится ни впускать зрителей в свое "я", ни самой вторгаться в их сознание. Ее работы могут показаться если не холодными, то спокойными, как бы отрешенными от преходящих эмоций и от тех преходящих состояний природы, которые способны эти эмоции спровоцировать, ее тянет к выражению категорий более отвлеченных и широких. Горизонталь и вертикаль - основные координаты нашего существования в мире: горизонталь удерживает его на себе, вертикаль противостоит ей, устремляя сознание к чему-то иному, "горнему". В их противостоянии Татьяна Беляева отдает предпочтение вертикали, и совсем не случайно в одной из своих натурных работ она с таким явным удовольствием улавливает эту вертикаль в парусе лодки, его отражении в воде и дороге, уходящей в даль и удачно продолжающей их.
В тех пейзажах, которые, может быть, и немногочисленны, но существенны для понимания ее искусства, скрещения горизонтали и вертикали возникают с той или иной степенью проявленности, но постоянно. Одним из персонажей этой бесконечной и безмолвной пространственной драмы становится плоскость земли, очерченная линией горизонта, вторым - дерево (или, чаще, деревья). Дерево это не просто вертикаль, как, скажем, столб, оно содержит в себе идею роста, это овеществленный, воспринимаемый знак устремленности ввысь, что художница склонна подчеркивать. Столкновения эти разнообразны: то вертикали деревьев как бы нанизываются на черту горизонта, то эта черта умножается, расщепляется на параллельные, дублируясь берегом озера (порой и противоположным берегом), то возникает лишь одно скрещение, но настолько мощное, что стягивает в себя силовое поле картины, то вертикали деревьев вытягиваются их отражениями в зеркале воды.
Сохраняя живую и притягательную узнаваемость запечатленного конкретногоместа, напоминать при этом о существовании "иных начал", незримо присутствующих во всем сущем, -- не в этом ли тайное (может быть, и для себя самой?) упование Татьяны Беляевой? Как знать.
Из книги "Графиня покидает бал"
Статьи и воспоминания, о Татьяне Беляевой
Издательство "АРТИСТ, РЕЖИССЕР, ТЕАТР", Москва 2010



 Главная
Главная
